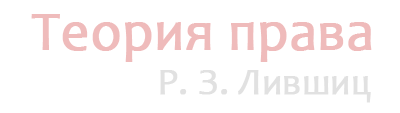§ 2. Право, государство и экономика
Воздействие права на экономику, пределы, цели, характер
такого воздействия составляют важнейшую характеристику места и роли права в
обществе.
Экономика – определяющая область человеческих отношений. Она
ближе всего к производительным силам, этому наиболее революционному, подвижному
и в то же время стихийному элементу в развитии цивилизации. Изменения в
производительных силах влекут за собой изменения в экономике. Опыт человечества
показал, что свободному и рациональному развитию экономики более всего
содействует рынок. Рынок сочетает в себе элементы сознательности и стихийности.
В то же время следует признать, что развитие рынка потенциально заключает в
себе возможность социальных ущемлений. Здесь мы сталкиваемся с одним из фундаментальных
противоречий общественного развития – несоответствием его производственной и
социальной сторон. Производственные интересы, материальные стимулы в условиях
рынка могут повлечь ослабление социальной защищенности людей. В природе рынка,
как уже указывалось, социальная защищенность человека просто не заложена. Чтобы
обеспечить подобную защищенность, ее нужно ввести извне. В этом одно из
важнейших направлений деятельности государства и права как средств сохранения
стабильности общества. Вот почему государственно-правовое вмешательство в
экономику необходимо, ибо оно несет в себе социальную защищенность человека.
Мера вмешательства государства и права, формы вмешательства здесь различны, они
зависят от состояния экономики.
В истории теоретической мысли обоснованы крайние подходы к
государственно-правовому вмешательству в экономику. В период становления
капиталистического способа производства наибольшее распространение получили (в
конце XVIII – начале XIX в.) теории
невмешательства государства в экономику, полной свободы
производителей. Суть таких взглядов очень точно выразил А. де Токвиль: «Самой
большой заботой правительства должна стать забота о том, чтобы приучить народы
обходиться без него». Эти взгляды преобладали в течение всего XIX в. и даже в начале XX в., хотя в последний период
выражались уже не столь категорично.
Иной взгляд на государственно-правовое вмешательство в
экономику обосновал марксизм-ленинизм. После победы Октябрьской революции эти
взгляды стали руководством к действию. Государство и в теории, и на практике
признавалось главным орудием построения социализма и коммунизма. «Отношения
социалистической собственности создают реальную возможность непосредственного
воздействия государства на развитие производительных сил и на производственные
отношения. Государство выступает не только как орган управления делами
общества, но и как собственник основных орудий и средств производства, использующий
их в интересах всего общества».
Или: «... главным полем деятельности общенародного государства остается
экономика. Именно здесь создаются предпосылки для обеспечения материального
благосостояния и духовного богатства жизни советских людей, здесь с особой
силой проявляется его творчески-созидательная роль».
Вот еще из научных мнений конца 80-х гг.: «Государственное
управление включает:... 1. Экономическое управление:
Материальным производством (промышленностью, сельским
хозяйством, строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, связью,
транспортом, воспроизводством окружающей среды); сферой обращения (внутренней и
внешней торговлей, снабжением и сбытом, финансами и кредитом)».
В теоретическом плане многими учеными и в XX в. отстаивалась концепция невмешательства
государства в экономику. Правда, взгляды сторонников либеральной школы (так
именовалось это учение) во многом отличались от прежних теорий полного невмешательства.
Наиболее последовательно взгляды современных либералов были изложены известным
ученым, лауреатом Нобелевской премии Ф. Хайеком. По его мнению, лучшее средство
направлять индивидуальную деятельность – эффективная конкуренция. Для того
чтобы конкуренция приносила пользу, необходимы тщательно продуманные
юридические рамки, а в отдельных случаях и определенные правительственные
мероприятия. Вместе с тем всякая попытка контролировать цены или количество
того или иного товара отнимает у конкуренции способность эффективно
координировать индивидуальные усилия. Государству следует ограничиться
установлением правил, применимых к широкому многообразию ситуаций, и предоставлять
индивидууму свободу во всем, что зависит от локальных обстоятельств.
Французский экономист Г. Сорман, характеризуя либеральный способ действий,
писал: «Речь не идет о том, чтобы предложить материальный план, который был бы полной
противоположностью социалистического или социал-демократического плана, а о
том, чтобы плана больше не было вовсе, чтобы с помощью всеобщей приватизации и
сокращения роли государства до минимума создать возможность каждому для
реализации его индивидуальных прав». И далее Г. Сорман приводит слова В.
Клауса, пришедшего к руководству в правительстве Чехии: «Моя наиважнейшая роль
в правительстве заключается в том, чтобы говорить «нет» всякому проекту
реформы, делающему государство ответственным за моделирование будущего общества
вместо того, чтобы поручить заботу об этом отдельным индивидуумам».
Аналогичные мысли высказываются и в России. Группой ученых Института
национальной модели экономики была разработана Либеральная хартия, имевшая
целью сформулировать естественный для России режим отношений государства,
экономики и общества. «Перед Россией, – указывается в Хартии, – стоит двойная
задача: создать и новую экономику, и новое государство. Для этого необходимо их
глубокое разделение. Экономика, чтобы быть эффективной, должна быть лишена
государственных функций установления правил в пользу ее отдельных агентов;
государство, чтобы стать легитимным арбитром внутренних конфликтов, не должно
иметь своих собственных экономических интересов. ... Государство, не участвующее
в экономической деятельности и распределении ресурсов, имеет сравнительно мало
возможностей быть коррумпированным ; принимаемые им решения могут основываться
на праве, а не на практической целесообразности; его должностные лица могут
быть не оборотисты, а честны».
В реальной действительности практика чаще всего избирает то
или иное промежуточное решение. В развитых западных странах вопрос о степени
вмешательства государства в экономику остается основным вопросом политической
борьбы. Взгляды республиканцев и демократов в США, консерваторов и лейбористов
в Англии, голлистов и социалистов во Франции, национальной партии и
социал-демократов в Швеции и т.д. отличаются главным образом в оценке роли
государства: одни – за невмешательство государства в экономику, другие – настаивают
на подобном вмешательстве. Жизнь идет по промежуточному пути, о чем лучше всего
свидетельствует периодическая смена политических партий у кормила власти.
Наша история накопила многолетний негативный опыт
государственно-правового вмешательства в экономику. Не повторяя материалов
многих публикаций, обратим внимание на теоретическую сторону этой проблемы. В
нашей стране начиная с 30-х гг. интересы производства выдвинулись на первый
план и стали преобладать над интересами человека. Идеологическим оправданием
такой линии служила теория о слиянии интересов производства и человека при
социализме. В действительности же подобное слияние невозможно, ибо интересы
производства и человека труда объективно не совпадают. Производство, например,
заинтересовано в максимальной продолжительности рабочего времени, а работник –
в минимальной, производство – в минимальной оплате труда (издержки
производства), а работник – в максимальной. Так устроена экономика, и социализм
не в состоянии ничего здесь изменить. Задача цивилизованного общества – найти
оптимальное сочетание разных интересов, при этом интересы и производства, и
работника должны быть в определенной степени ущемлены. Найти меру взаимного
компромисса непросто. Во всяком случае до сих пор нам это не удалось.
Разумно соотнести производственные и социальные начала можно
лишь на основе четких представлений о том, что собой представляет эксплуатация
человека человеком. Наивно полагать, будто можно так организовать систему
производства и распределения, что любая эксплуатация будет преодолена.
Экономическая сущность эксплуатации заключается и в изъятии у работника
созданного им прибавочного продукта и, что очень важно, невозвращении его
работнику. Это неизбежно при любой организации коллективного труда. В
примитивных формах производства прибавочный продукт изымает предприниматель, в
сложно организованном производстве – различные государственные органы. Все
общественные расходы базируются на изъятом прибавочном продукте. Справедливость заключается не в
преодолении данного явления, а во включении самого трудящегося в распределение
созданного им прибавочного продукта. Уровень социалистичности общества
характеризует степень участия трудящихся в таком распределении. Внедрение
эффективных и справедливых его форм, обеспечение контроля за распределением и
есть цель социализма в области социальной справедливости. Вместе с тем необходимо
признать, что несовпадение производственных и социальных начал составляет объективно
существующее противоречие экономики.
В нынешних условиях нахождение баланса производственных и
социальных задач особо актуально. Современный период нашего развития
характеризуется как переход к рыночной экономике, воплощающей приоритет
производственного интереса, который превалирует во всех рыночных механизмах.
Социальный элемент – защита интересов человека труда – проводится при рыночной
экономике через государственное вмешательство, правовое регулирование. Только
таким способом и можно добиться высокой экономической эффективности производства
в непременном сочетании с прочными социальными гарантиями, социальной защищенностью
человека. В этом – главная цель государственно-правового вмешательства в
экономику. Оба крайних тезиса: и о государственном управлении экономикой, и о
невмешательстве государства в экономику – не могут быть основами практической
политики. Государство должно вмешиваться в развитие экономики, преследуя
социальные цели, цели защиты интересов человека.
Какими правовыми средствами можно добиться осуществления
этой цели?
Мы располагаем собственным негативным историческим опытом.
Производственные задачи решались трудом всего народа, каждого труженика якобы
для всеобщего блага. На деле же выходило – только для блага государства. Таким
образом, государство забирало все результаты труда. Социальные задачи решались
затем патерналистским путем: государство в порядке доброхотного даяния отдавало
трудящимся ничтожную и им же, государством, определенную часть общественного
продукта. В правовой форме эти процессы опосредовались полной
зарегулированностью экономической и социальной деятельности, отсутствием свободы
как при создании материальных благ, так и при их получении. Императивное и
всепроникающее правовое регулирование пронизывало всю экономику: производство
(централизеванное планирование), обмен (централизованное снабжение и
организация торговли) и распределение (точная регламентация заработной платы,
пособий, пенсий). Результаты известны: полное подавление заинтересованности в
труде, крайне низкий уровень обеспеченности и потребления.
Единственным путем изменения прежней ситуации является
разгосударствление экономики, обеспечение свободы производителя Вместо того
чтобы регламентировать каждый шаг производителя в любой ситуации, как было
раньше, право призвано обеспечить для него полную свободу поведения,
ограниченную рамками немногочисленных запретов. Правовое регулирование призвано
не заранее регламентировать «игру», а только установить ее правила. Таким
образом достигается решительный поворот к диспозитивному регулированию. Так обстоит
дело в сфере производства и обмена. Государственный сектор в экономике может
быть сохранен в разумных пределах, диктуемых исторической ситуацией.
Сложнее со сферой распределения, с социальными процессами.
Здесь полный отказ от императивности в пользу диспозитивности, по-видимому,
невозможен. И область оплаты труда, и область выплаты пенсий, назначения
пособий и т.п. требуют более или менее четких указателей. Тем не менее и здесь
правовое регулирование должно стать иным. В области оплаты труда жесткой
фиксации подлежат только минимальные гарантийные размеры, во всем же остальном
государственная жесткая регламентация должна уступить место коллективным договорам
и соглашениям сторон. А в сфере выплат нетрудоспособным пока что, да и в обозримом
будущем, от императивного жесткого регулирования отказаться нельзя. Дело здесь
в самой природе этих выплат. Их источником, как источником всех социальных
благ, являются налоги с производителей, прямые или косвенные удержания. Размеры
налогов и удержаний подлежат жесткой регламентации в интересах самих
производителей во избежание произвола со стороны государства. А те источники,
которые создаются в строго регламентированных размерах, подлежат расходованию
тоже строго регламентировано.
Таким образом, в правовом регулировании экономики может быть
намечена тенденция к расширению диспозитивного регулирования. Это самый общий
вывод. Далее эту тенденцию нужно конкретизировать в тех или иных сферах
регулирования и в соответствующих отраслях законодательства.
Мы постараемся провести такую конкретизацию на примере
некоторых отраслей законодательства, рельефно выражающих
социальное направление и социальный характер государственно-правового
вмешательства в экономику. Разумеется, последующее изложение носит самый общий
характер, оно имеет целью раскрыть только концепцию той или иной отрасли под
углом зрения социального характера правового регулирования в целом. Подробное и
детальное изучение отраслей законодательства осуществляется в специальных
курсах каждой отрасли.

|